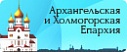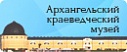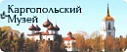Стенд "Кулойлаг"
Кулойлаг
Мы оставили материк в 1928 году, когда погиб архимандрит Вениамин. С этого времени, с конца двадцатых годов Гулаг расползается по всей стране. Условия для этого созрели. В 1928-29 годах появилась новая категория граждан – «лишенцы». Избирательных прав лишались все священники, монахини и монахи, лица, служившие до революции в полиции и на государственной службе, воевавшие в белой армии, торговцы, да и просто крепкие хозяева. Стоило какой-нибудь бабе сказать на сельском сходе, что она когда-то жила в зажиточной семье в няньках, как положение этих людей становилось крайне не устойчивым.
Но в старой России потому и не было сиротства, как явления, что соседи, родственники, если случалась беда, приходили на помощь. На фотографии семьи священника Якова Иванова сзади стоят две девушки – они дети другого рано умершего священника. Отец Яков вырастил их, воспитал, дал образование и выдал в замуж.
Люди воспринимали лишение избирательных прав, как обиду. Писали заявление властям и, случалось, добивались «восстановления в правах». Таких бумаг можно найти много в архивах. Но вы не найдёте там заявлений от священников. Они не писали их, возможно, понимая, что «телёнку бесполезно бодаться с дубом»
Решение о лишении прав принимал сельский сход или волисполком, утверждала его комиссия райисполкома. Мы поместили решение Мезенской комиссии о судьбе Василия Маслова, старосте старообрядческой общины деревни Сёмжа Приморского района.
Интересная коллизия сложилась в Сёмже в конце двадцатых годов: сын одного церковного старосты взял в жёны дочь другого. Сын старосты Никольской церкви Евлампия Евлампиевича Маслова посватался к дочери старосты староробрядцев Василия Маслова. Дети заклятых врагов решили пожениться. «Капуллетти» и «Монтекки» на наш северный лад. Естественно, среди старообрядцев много было возмущения таким поступком молодых, и прихожане никольской церкви их осуждали, но печальной стала не их история, а судьба родителей.
В 1931-ом году обоих сватов раскулачили, а на следующий год арестовали за «контрреволюционную агитацию». Евлампия Евлампиевича через пять месяцев выпустили и до 37-го года он жил дома, работая в колхозе. 26 сентября 1937 года – второй арест как «активного церковника». 10 лет лагерей, и по семейной легенде Евлампий Евлампиевич погиб в «Кулойлаге» на реконструкции шлюзов, соединяющих реки Пинегу и Кулой. Где и как погиб Василий Семёнович – информации не сохранилось.
От сумы и от тюрьмы не зарекайся – гласит русская пословица. Так было всегда. Но наша Церковь дала определение: в XX веке в России правила бесовская власть. Особенно сильно она проявляла свой звериный оскал там, где была явлена особенная святость. На пример, в Суре. Духовных детей святого праведного Иоанна Кронштадтского эта власть гнала особенно яростно. В 1897 году в Сурском приходе начал служить Александр Яковлевич Иванов. На семейном снимке он слева от родителей. У отца Александра у самого была большая семья, а крестным отцом его и матушки Августы Павловны первенца Евгения был сам святой праведный Иоанн Кронштадский.
В 1904 году отца Александра перевели в Чубнаволоцкий приход. Потом он служил в Александровским, Афанасьевском приходах. Воевал в первую мировую войну и был награждён тремя орденами. В гражданскую войну был священником первого Северного полка, и поэтому неоднократно арестовывался. Последний раз по делу епископа Антония (Быстрова) и был выслан в ссылку на границу тундры и лесотундры. Дальше его следы теряются. Как не старается внучка Татьяна Карьялайнен узнать, где погиб дед – органы не дают ответа. Предполагаю, что отец Александр погиб где-то на территории «Кулойлага»
После отца Александра в Суре служил отец Венедикт Титов. Он тоже из древнего священнического рода – Титовых. Его отец, Вячеслав Титов, учился вместо с Иоанном Кронштадским в семинарии. Отец Венедикт много и, кажется, охотно печатался Архангельских епархиальных ведомостях, и воспользуюсь моментом немного перевести дух и прочитаю его две заметки о знаменитом земляке.
Третье замечание для экскурсоводов:
При недостатке времени выделенное курсивом можно и опустить.
Случай первый.
( Июнь 1905 года)
Во время заамвонной молитвы я стоял у святого престола задумавшись. У меня появилась мысль описать в епархиальных ведомостях пребывание отца протоиерея в Суре.
Вдруг отец Иоанн вслух сказал: «Тебе сейчас Бог вложил в сердце благую мысль описать о моём пребывании здесь. Благословляю: пиши в назидание отсутствующим».
Случай второй.
(Июнь 1906-го года)
При служении литургии в приходском грамме, когда отец протоиерей совершал у жертвенника проскомидию, я стоял в стороне и сильно занят был следующей мыслью: строителем сего приходского храма, построенного на средства отца протоиерея, был мой тесть – бывший священник сурского прихода отец Феодор Корелин.
После освящения храма, по желанию отца протоиерея, он был переведён в другой приход в следствии ложного доноса учителя местной школы. За этот перевод, как наказание, отцом Феодором не заслуженное, мне иногда приходилось слышать с его стороны обиду на отца Иоанна.
Помню, смотрю я на отца Иоанна и размышляю в себе: «Как это отец протоиерей не мог разобраться в ложном донесении? Как великий молитвенник и премногооблагодатствованный не провидел сего?»
Вдруг отец Иоанн бросает копьё (т.е. прерывает проскомидию –Н.С.), подходит ко мне и начинает спрашивать меня о здоровье тестя моего. А по получении ответа вдруг говорит мне:
- Будешь писать ему, попроси, чтобы он не обижался на меня, и скажи ему, что каждую службу я поминаю его в своих молитвах.
И отвернувшись, он продолжал проскомидию.
Отец Феодор Корелин , о котором идёт речь, на втором плане, за сыном Иоанном.
Александр Иванов, Венедикт Титов, Иоанна Корелин, Георгий Маккавеев, служивший в Суре в те же годы, в гражданскую войну все они были полковыми священниками и по одному этому подлежали уничтожению. Георгий Маккавеев был расстрелян в 1920 году в Архангельске, Александр Иванов, повторюсь, погиб в ссылке, Венедикт Титов, тоже был трижды судим: первый раз на Пинеге, второй раз, как священник Шеговарского прихода Шенкурского уезда, последний раз в 1938-ом году, будучи настоятелем Вознесенской церкви.
Справа мы поместили копию протокола допроса отца Венедикта. Когда читаешь такие документы, больше всего поражают спокойствие, достоинство вопрошаемых. Отцу Венедикту присудили 10 лет лагерей, в тридцать восьмом году на этапе в «Кулойлаг» уголовники отобрали у него валенки. Он обморозился, началась гангрена, и вероятно, в санчасти Окуньковских лагерей отец Венедикт умер. Это всё, что удалось выяснить дочери.
- Подумаешь, зек умер,- сказали ей,- «съактировали», и все дела! За первый квартал 1938 года в «Кулойлаге» ещё «полторы тыщи» умерли, а за год - четверть лагеря.
Вы спросите, где могилы? А нет могил. Или под каждой елкой по могиле – кому как нравится. Ни один музей мира не сможет рассказать о всех погибших и зарытых в наших северных лесах. Поэтому такие крестные ходы, как наш на снегоходах, проведённый в 2013 году, должны стать традиционными. И в лесу, хоть раз в году, должна звучать молитва.
Кстати, поляки очень активно ведут поиски могил своих интернированных соотечественников. Конечно, в их действиях много политики, но перекреститься, помолится перед таким знаком, установленном ими под Рочегдой, достойно и православному.
На лесоповале гибли и Владыки (Владыка Игнатий погиб в «Кулойлаге»), и простые священники, а больше - здоровые мужики, крестьяне, - хребет, основа нации. Выработался даже норматив: зек должен отработать три месяца. Но некоторые смогли продержаться и дольше. За свидетельством обратимся к нашему «Вергилию», к Олегу Волкову:
Четвёртое замечание экскурсоводам:
Может быть, отрывки цитирования зачитывать? Исходя из этого соображения я выделил их.
«...Самое трудное дело в землянке — высушить намокшие за день в лесу одежду, рукавицы, портянки. Возле железной бочки, обращенной в печь, тесно. Надо уметь захватить место и его сохранить. Кроме того, металлические стенки нагреваются добела и близко развешенное тряпье, того и гляди, сгорит, а если развесить подальше — рискуешь к подъему найти свои шмотки сырыми. А как в мороз идти на заснеженную лесосеку, да еще в особенно тяжкий темный предрассветный час, в сыром ватнике и влажных рукавицах, сразу затвердевающих? Про это и помыслить нельзя без содрогания, если даже лежишь, как я сейчас, в несусветной жаре, на верхнем ярусе нар, настланных из неокоренных жердей. Тут бывает как возле паровозной топки. От расшурованных в объемистом чреве бочки смолистых кряжей железо накаляется как в горне и обжигающий жар проникает в самые далекие и темные закоулки землянки: впору лежать как на полке в бане — нагишом. Поэтому новички норовят заполучить себе место внизу и подальше от очага.
Но я старожил. Давно кочую по лесным лагпунктам и потому знаю, что усердно топят только короткое время, пока вваливаются с мороза в землянку, ужинают и разбираются. Потом все полягут спать, никому неохота встать и подложить в гаснущую топку дров, да их частенько и не хватает на всю ночь. А с дневального чего спросишь? Больной, обколоченный старик... Пошлет тебя подальше, натянет и обладит вокруг себя неописуемое тряпье, из какого сооружено его ложе, и снова захрапит. Едва огонь ослабеет, как мороз через тысячу щелей и дыр начинает проникать в землянку: она слеплена из жердей, крыша из лапника, прижатого к обрешетке комьями мерзлой земли.
Потому я и выбрал себе место наверху и поближе к печке: тепло держится тут дольше. Да и сподручнее следить отсюда за своим добром: прозеваешь — и спрашивать будет не с кого. И ступай, пожалуй, на целый день в лес в котах из автомобильных покрышек на босу ногу! У меня завелись суконные подвертки, вырезанные из полы старой шинели, доставшейся от задавленного деревом при валке товарища, и я поневоле над ними трясусь.
В моем представлении поморозиться — последнее дело, хотя немало народу мечтает попасть в стационар с обмороженными пальцами. Даже видит в этом великую удачу. «Уроки», правда, сумасшедшие, за невыполнение грозят тяжкие кары, но превратиться в этой обстановке в инвалида — уж лучше сразу, как поступают некоторые, незаметно отстать от партии и удавиться на суку или попросту лечь на снег в исподнем... Вопреки здравому смыслу и опыту, я вбил себе в голову, что должен непременно выйти из лагеря, пусть нет воли и за зоной.»
Рискую вызвать неудовольствие, но продолжу цитирование:
«Нас, как всегда, пригнали на лесосеку затемно, и мы развели костер, поджидая рассвета. Но уже показался край нераннего зимнего солнца — багрового, зловещего,— а мы все еще сидим. Пожалуй, грейся хоть целый день! В лесу все равно продержат, пока не будет выполнен «урок». Бригадир с воспитателем раскидают костер — это испытанный способ, чтобы заставить свалить назначенное число деревьев и подтащить к санной дороге положенное количество бревен.
И я наконец решаюсь встать первым и отойти от костра.
— Ему больше всех надо, очкастой суке! — злобно цедит кто-то за моей спиной.
Я узнаю голос, но мне неохота обернуться, чтобы ответить. Пусть себе!
Один за другим работяги следуют моему примеру, у костра не остается никого. Еле двигаясь, через силу принимаемся за работу.
Стужа, затаившаяся за пределами очерченного огнем магического круга, сразу сковывает, хватает как клещами. Стоит ступить в рыхлый снег, как он тотчас попадает в ботинок: сухой и черствый, как соль, снег, просыпавшись за портянку, ожигает кожу. Ноют стынущие пальцы, нетвердо охватившие рукоять лучковой пилы.
Не скоро, ох как не скоро начинает брать свое движение: понемногу разогреваешься, мысли сосредотачиваются на том, откуда лучше делать запил, в какую сторону валить дерево, и поневоле начинаешь шевелиться проворнее, чтобы не терять попусту времени: кубометры «урока» как наведенное на тебя дуло пистолета. И только подумать, что находились ликующие перья, писавшие об этом как о трудовом подъеме!.. Но, как бы ни было, ГУЛаг лес заготавливал.
Справившись со здоровенным стволом — не менее двенадцати дюймов в отрубе! Это, пожалуй, без малого кубик,— я распрямляюсь, сдвигаю шапку с влажного лба... Стоит околдованный зимой лес. Да не какой-нибудь жиденький, просвечивающий, а не тронутый от века северный бор — глухой, нескончаемый, с великанами-соснами и лиственницами. Его впервые потревожили люди... Деревья плотно укрыты снегом. Ели стоят как торжественные, сверкающие свечи. Там, где не достает солнце, скопились яркие синие тени. Не заросшие подлеском поляны и прогалы в плавных мягких буграх, похожих на белые волны; они искрятся и блестят в тени. И так тихо, так неподвижно кругом, что мерещатся какие-то волшебные чертоги из сказки. Я поддаюсь очарованию, даже отвлекаюсь от своего дела — такой первозданной красотой довелось любоваться! — но не настолько, чтобы забыться, зашагать между деревьями. Уйти в эту красоту куда глаза глядят...»
Олег Волков сумел выжить и описать своё «погружение во тьму», но сколько мужиков и женщин перемололи «Каргопольлаги», «Ягринлаги» и прочие «лаги».